«Невероятная жизнь Федора Михайловича Достоевского. Все еще кровоточит» Паоло Нори
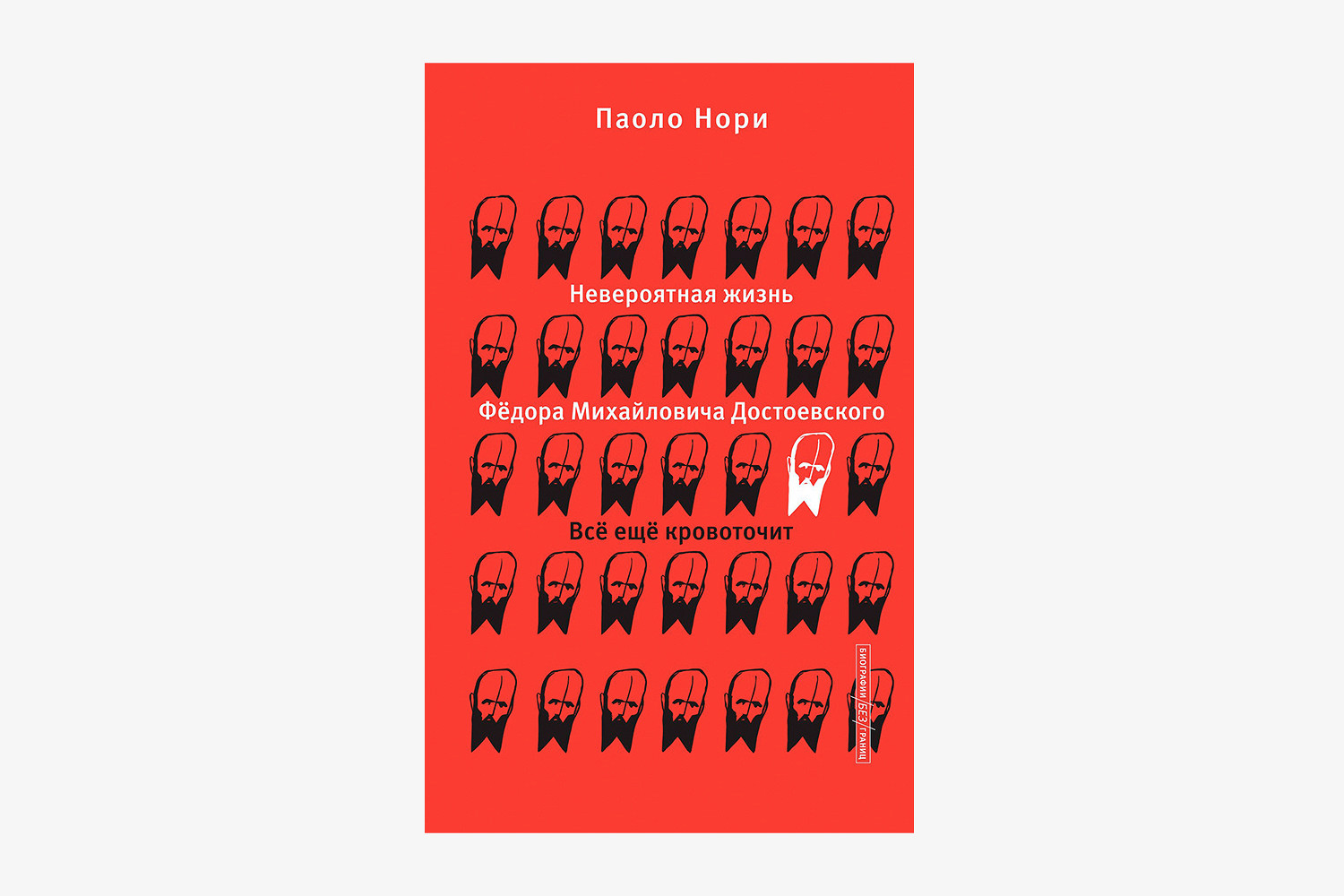
Известно, что есть на свете два типа людей — те, кто считает главным бородачом в истории русской литературы Льва Толстого, и те, кто предпочитает Федора Достоевского. Вот итальянец Паоло Нори — из второй команды. Лет в пятнадцать он прочитал «Преступление и наказание» — да так и не смог оправиться от потрясения. Он полюбил русскую литературу, защитил в Университете Пармы диплом по творчеству Велимира Хлебникова, перевел на итальянский книги множества писателей: от Пушкина и Гоголя до Венедикта Ерофеева и Стругацких. Ну и сам стал писателем. С русской литературой надо быть осторожнее: видите, что она с человеком делает.
В 2020-е годы у Нори появилось новое дело: он стал писать для итальянцев о русских писателях; первой стала книга о Достоевском под цепким названием «Все еще кровоточит». В русском переводе оно поменялось местами с подзаголовком «Невероятная жизнь Федора Михайловича Достоевского», что случайно оказало книге медвежью услугу: многие читатели приняли ее за биографию и были разочарованы.
Их можно понять: как биография, книга Нори не выдерживает никакой критики. Знакомя читателя с жизнью русского писателя, Нори то и дело сбивается с мысли, путается в деталях, увлекается отступлениями и отступлениями от отступлений, а в какой-то момент начинает рассказывать истории из собственной жизни: как умер его отец, как они расстались с женой, как после пережитой аварии вновь полюбили друг друга. Вместо биографии перед нами какая-то смесь разнородных фрагментов, и читать ее стоит не ради фактического изложения событий жизни Достоевского. Но упрекать в этом Нори неверно: в первых же страницах он пишет, что книга была задумана как роман, а не как биографический труд.
Романы Достоевского, как известно, полны неточностей и шероховатостей — от знаменитого «круглого стола овальной формы» до дочери Сони Мармеладовой, которая посреди романа превращается в сына. Эти ляпы в основном были связаны с нечеловеческой скоростью работы писателя: «Игрока» он, скажем, написал за двадцать семь дней, стараясь поспеть к дедлайну. Но, подтрунивая над формой стола, мы вынуждены признать, что эти несовершенства не влияют на эмоциональную силу романов. Нори, конечно, не Достоевский, но справедливым будет сказать: его книге неряшливости тоже не мешают, тем более что сам автор напрямую признает свои промахи прямо в тексте.
Значит ли это, что из книги ничего нельзя узнать о Достоевском? Вовсе нет. Нори не только в целом верно описывает события жизни писателя, но и анализирует отдельные фразы, убедительно показывая, что Достоевский порой мог быть изящным стилистом. А еще дает важный контекст для его понимания: от краткого экскурса по жизни Гоголя или пересказа «Евгения Онегина» до обширных цитат из «Москвы — Петушков» или миниатюр Хармса. Большинству российских читателей все это будет знакомо — книга адресована в первую очередь итальянцам, не зубрившим в школе строк про дядю честных правил. Но этот новый угол зрения — отстраненный, чуть упрощающий, страстный — помогает и нам взглянуть на знакомую литературу по-новому, смахнув с нее штампы школьной программы, и снова увидеть в книгах Достоевского не пыльные тома, а что-то по-настоящему живое.
Когда российские издатели поменяли местами заголовок книги с подзаголовком, они случайно создали новое название, описывающее роман еще точнее: «Невероятная жизнь Федора Михайловича Достоевского все еще кровоточит».
Один из важных эпизодов книги связан с поводом для ареста Достоевского: им стало публичное чтение и распространение письма Белинского к Гоголю. Рассказывая об этом, Нори поражается: можно ли представить, что разговор о литературе когда-то был чреват репрессиями? Что ж, до смертной казни теперь дело не доходит, но вскоре выяснилось, что и полтора столетия спустя литература продолжает будоражить умы. В марте 2022 года Миланский университет Бикокка уведомил Нори о переносе его цикл лекций о Достоевском во избежание «полемики в момент сильной напряженности». Решение вскоре было отменено, но писатель сравнил его с цензурой и отказался сотрудничать с университетом.
В 2023 году вышла книга Нори об Анне Ахматовой — тоже соединявшей рассказ о поэтессе с размышлениями автора о России и русской литературе. Из русского издания была (по согласованию с автором) изъята часть текста — где-то отдельные слова, где-то целые абзацы. Сам Нори в предисловии признает: «…я хочу, чтобы русские читатели знали, что версия, которую они найдут здесь, не идентична оригиналу. Есть вещи, которые, в соответствии с российским законодательством, не могут быть опубликованы в том виде, в каком я их написал. Будьте здоровы!» В 2025 году в Италии вышел специальный тираж книги, где Нори выделил изъятые фрагменты и написал, что польщен встать в один ряд с любимыми писателями, столкнувшимися с цензурой. Выходит, название книги о Достоевском справедливо: все это действительно кровоточит. Впрочем, если кровь пульсирует, значит, сердце бьется.
«Короче, Пушкин» и «Пушкин. Книга про все» Александра Архангельского*
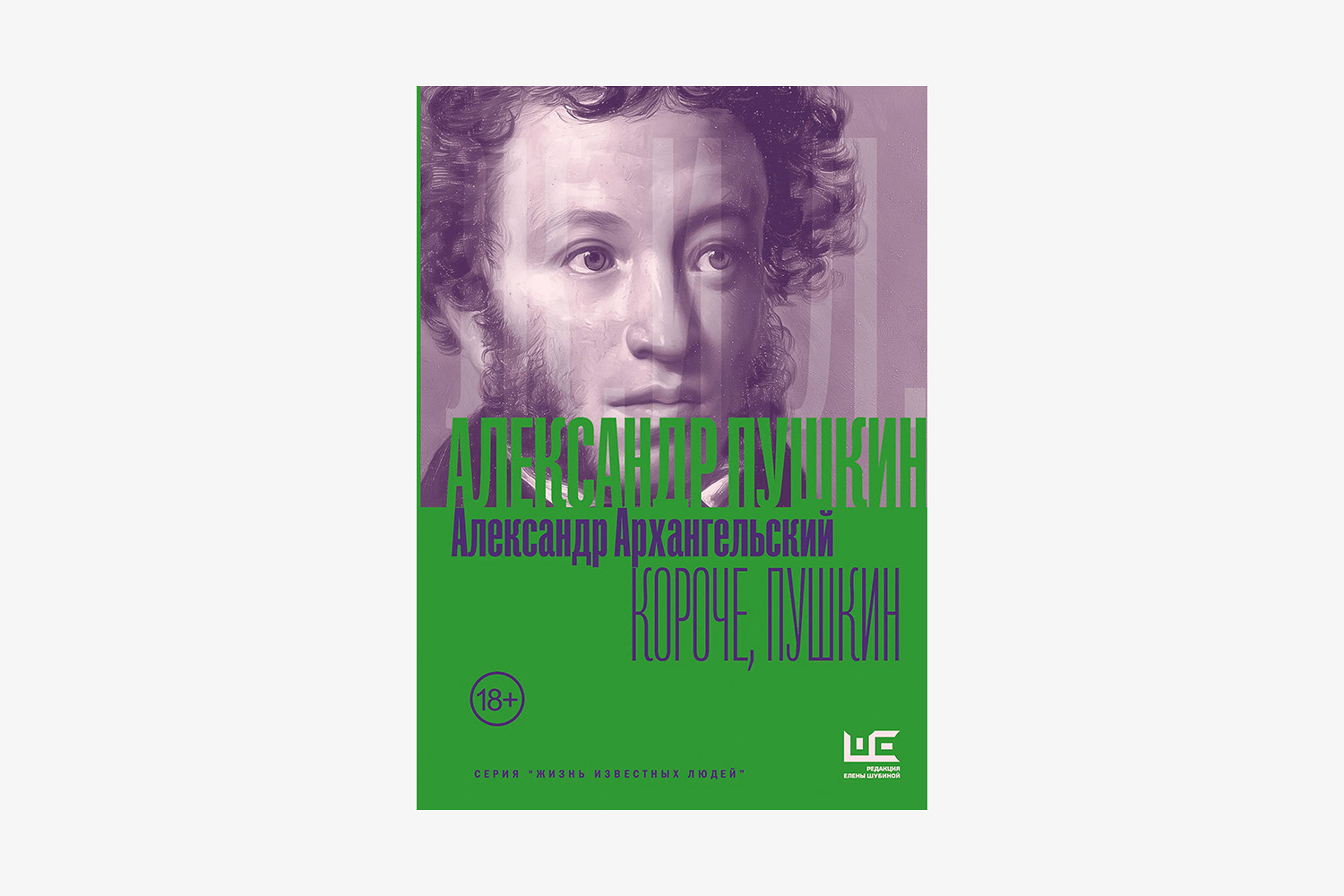
С Пушкиным вот какая проблема. С одной стороны, это фигура настолько сложная, что к нему не знаешь как подступиться. С другой — настолько знакомая, что с ним будто бы все ясно. Поэтому из века в век все пытаются его упаковать в ясные рамки, закрасить одной краской (желательно золотой) и с криком «Пушкиннаш!» водрузить его на свои знамена. Сам Пушкин, объявленный пламенным либералом, убежденным имперцем или еще кем-нибудь, при этом становится просто знаком одобрения, который добавляет основательности этому знамени.
Литературовед Александр Архангельский* в своей книге предпринимает попытку сойти с этой карусели и соскоблить позолоту, обнаружив за штампами Пушкина настоящего. А это значит — сложного, противоречивого, изменчивого (не зря оглавление выглядит хрестоматийным «путешествием героя»: «Как Пушкин стал Пушкиным»/«Как Пушкин расхотел быть Пушкиным»/«Как Пушкин вернулся к себе»). Главное наблюдение Архангельского* такое: чуть ли не в каждом из ключевых произведений Пушкина можно увидеть две части, разделенные союзом «но». Так он сочетает несочетаемое — пастораль с сатирой, обличение с элегией, — в итоге создавая стихи, сложные как сам мир.
Сквозь призму этого союза Архангельский* рассматривает и творчество поэта, и его жизнь, и посмертную судьбу, видя в поэте отражение страны, которую он так любил и которая назначила его ни много ни мало Солнцем.
А еще это просто страшно увлекательная книга, которая не пытается открыть сенсационные подробности, а знакомит читателя с самыми интересными событиями из жизни Пушкина, в финале предлагая заинтересовавшимся список литературы для дальнейшего изучения. Но, если на длительное погружение вы не готовы, а хотите узнать про поэта больше, чем предлагают выхолощенные учебники, это отличная книга, к тому же полная занятных деталей: чего стоит хотя бы краткий воображаемый экскурс о несложившейся экспедиции Пушкина в Китай.

И небольшое объяснение того, что слово «книга» здесь упоминается в единственном числе, а на иллюстрации читатель благосклонный явственно видит две обложки с разными названиями. Дело в том, что книга Архангельского* одновременно была выпущена в России и в Словакии. Тут- и тамиздатская версии чуть отличаются: где-то на уровне (буквально!) запятых или стилистических правок, где-то чуть изменен порядок глав. Есть и более существенные отличия: в российской версии стало значительно меньше абзацев, посвященных религиозным темам в поэзии Пушкина, и почти целиком исчез анализ его денежных дел — скрупулезный, но не самый увлекательный. Наконец, в братиславском издании больше ниточек протягивается от Пушкина к авторам XX века: Маяковскому, Чехову, Бродскому, Пригову.
Но при всем оговоренном это одна и та же книга. В предисловии к «Книге про все» Архангельский говорит, что ему принципиально важно, чтобы люди, говорящие по-русски в разных точках мира, имели возможность поговорить про что-то общее — хотя бы и про Пушкина. В эпоху, когда люди все более разделены, эта единая в двух изданиях книга становится попыткой наводить мосты — а не для этого ли вообще нужна литература.
«Бражники и блудницы» Максима Жегалина

Любая ушедшая эпоха со временем мифологизируется, обращается в глянцевую версию самой себя — но Серебряному веку русской поэзии, кажется, сильнее всех не повезло. С одной стороны, он был соткан из жизней десятков мужчин и женщин, а широкий читатель вспомнит хорошо если с полдюжины. С другой стороны, и эти полдюжины — Ахматова, Маяковский, Цветаева, Есенин — ужались до хрестоматийных образов, если не сказать мемов. Мы вспомним какое-то количество слов, примерно помним, кто когда трагически погиб, да еще докидываем сверху пару исторических анекдотов — и получается поэт, за которым уже и не видно человека.
Актер и писатель Максим Жегалин (какое подходящее сочетание профессий для разговора о насквозь перформативном Серебряном веке) в своей книги как раз и показывает нам всех этих гениальных чудаков с их человеческой стороны. За образец он явно взял книги немецкого историка Флориана Иллиеса. В России больше всего любят его «1913. Лето целого века» (не в последнюю очередь из-за отличной аудиокниги в исполнении Алены Долецкой), но «Бражники…» скорее напоминают «Любовь в эпоху ненависти», где европейские и американские интеллектуалы страстно любят друг друга в краткое межвоенное десятилетие.
То же и здесь. Жегалин выбирает временными рамками семнадцать лет от 1905 года, когда Блок и Волошин на одном поезде прибывают в Петербург, до 1921-го, когда чекисты убивают Гумилева. Но на эти годы можно глядеть и по-другому: это одни из самых хаотичных лет в русской истории, обрамленные первой революцией и Кронштадтским восстанием, а между ними — Первая мировая, экономический коллапс, отречение и убийство Николая II, Гражданская война, красный и белый террор, голод и эпидемии. На этом контрасте большого и малого, эпохального и сиюминутного и строится книга.
Как и Иллиес в своих книгах, Жегалин работает импрессионистски. Редко какой сюжет здесь рассказывается за один присест; в основном это короткие зарисовки на абзац-другой, которые перемежаются друг с другом, отражаются, рифмуются, играют в жмурки. От этого мельтешения может чуть закружиться голова, но в том-то и суть. Похожая своей то драматичностью, то нелепостью на ленту соцсетей, эта книга рассказывает не о том, что тогда происходило, а о том, каково это было — жить в центре урагана.
Выбранный Жегалиным временной промежуток дает ему и еще один сюжет — крошечный, почти незаметный, но на самом деле ключевой. В самом начале книги в петербургской квартире рождается младенец; в финале он, уже шестнадцатилетний юноша, решает стать писателем и берет себе мрачный псевдоним — Хармс. Он не имеет отношения к Серебряному веку, но его присутствие помогает связать историю воедино.
«Бражники и блудницы» показывают, что все эти люди, гениальные и бездарные, великие и нелепые, то наивные, то зловредные, были в первую очередь людьми. И если дело литературы учить сочувствию, то книга Жегалина помогает вспомнить именно об этой ее функции.
«Право и литература» Алима Ульбашева

По распространенному мнению, многие, если не все, беды России — следствие трагического разрыва между законностью и справедливостью. И понятно, на какой стороне тут русская литература, полная продажных судей и жестоких прокуроров (которых она, конечно, берет из жизни, где их всегда было полно). Юрист Алим Ульбашев в своей книге берется доказать, что противоречие это кажущееся, и обнаружить связь между отечественной прозой (в первую очередь XIX века) и современным законодательством.
Это не новый угол зрения: во введении автор показывает, что традиция изучения литературы через право, а права через литературу идет как минимум из XIX века, когда немецкий профессор Рудольф фон Иеринг на лекциях поручал студентам кроме законов и трактатов читать пьесу Шекспира «Венецианский купец».
Первую, самую короткую часть книги под герценовским заглавием «Былое и думы» автор посвящает взаимоотношениям писателей и власти — нередко трагичным для первых и позорным для вторых. В этой главе он не только напоминает о том, что даже проигравшие в этой борьбе писатели в долгой перспективе выигрывают, но и обращает внимание: «Ни церковные иерархи, ни профессиональные философы не смогли сделать в России того, что удалось русским писателям, — сформировать представления о добре и зле, должном и запретном, вечном и бренном, праведном и греховном, то есть об универсальных, близких большинству жителей страны постулатах. Для юриспруденции эти понятия особенно важны, поскольку они образуют этический фундамент права как искусства добра и справедливости (лат. ius est ars boni et aequi)».
После этого Ульбашев переходит к основной части — литературному комментарию к статьям Гражданского и Уголовного кодексов. Статья 10 ГК РФ («Пределы осуществления гражданских прав») оказывается связана с аферами Чичикова, статья 17 («Правоспособность гражданина») иллюстрируется тургеневским очерком «Хорь и Калиныч».
Переходя к Уголовному кодексу, Ульбашев протягивает от закона еще одну нитку — к ветхозаветным заповедям, которые во многом соответствует УК. Главы здесь так и называются: «Не убий», «Не кради», «Не произноси ложного свидетельства», «Не желай дома ближнего твоего». Эта параллель, хотя и напрашивающаяся, кажется излишней в этой книге — тем более что для нее автору приходится проигнорировать большую часть заповедей вроде «Помни день субботний, чтобы святить его». Тем не менее литературные комментарии и здесь остроумны и глубоки: чего стоит хотя бы анализ кейса с коллежским регистратором Хлестаковым из гоголевского «Ревизора». Согласно Ульбашеву, ему грозит обвинение в мошенничестве (статья 159 УК РФ), но тюрьмы он может избежать, «если докажет, что считал полученные деньги не взяткой, а займом и намеревался вернуть полученное до последней копейки». А вот чиновникам, которых Хлестаков провел, не избежать статьи 291 УК РФ — «Дача взятки».
В самой объемной части Ульбашев обращается к конституции России. «О подлинно народном характере Конституции 1993 года говорит то, что она вобрала в себя все лучшее из русской литературы: ее представления о законности и справедливости, человеке и народе, общественном и государственном устройстве», — пишет автор.
В 2020 году, когда основной закон начали менять, автор этих строк подумал, что единственный из здравствующих писателей, которому не глядя можно было бы доверить присмотреть за конституцией, — это Леонид Юзефович (тогда со мной согласились многие собеседники, которые мало в каких вопросах сегодня сошлись бы). Над текстом 1993 года писатели не работали, но Ульбашев находит и в ней литературные следы. Уже размышляя о первом ее слове — «Мы», — он показывает, как изменялось значение этого местоимения: от Пушкина через, конечно, Замятина и до фразы «Мы, многонациональный народ Российской Федерации…».
Дальше он проходит по разным статьям конституции, вновь показывая, что в каждой из них заложена ценность — свободные выборы, разделение ветвей власти, свобода совести и вероисповедания, право частной собственности, — которая столетиями выкристаллизовалась в литературе. Не хватает в списке обсуждаемых статей разве что статьи 29, провозглашающей гарантию свободы слова и запрет цензуры — но эти вопросы подробно поднимаются в самом начале книги.
«Говоря об Основном Законе страны, мы должны быть последовательными и видеть не только прошлое Конституции, но и ее нынешнее положение, — признает автор в одной из последних глав. — К сегодняшнему дню у Конституции появились первые морщины, волосы ее покрылись редкой сединой, временами подводит здоровье, а в глазах угас юношеский задор. Такие детали всегда важны для понимания натуры, темперамента и образа литературного героя, оттого и мы смотрим на Конституцию не в ее первозданном, младенческом виде, притворившись, что время над ней не властно, а на ее нынешний облик». Сказав это, он касается и одной из привнесенных недавно статей — не только продолжая литературный анализ, но и показывая, чем эти поправки отличаются от изначального текста, принятого народом в 1993 году.
Алим Ульбашев — идеалист и, кажется, всерьез верит в то, что законы могут менять жизнь людей к лучшему. При этом он не ослеплен своей верой в юридическую утопию: в книге он признает, что и закон, и его субъекты бывают и несовершенными, и злонамеренными. Да и к литературе автор относится с пиететом, но критически. В главе о правах народов он рассказывает не только о татарской, грузинской, еврейской, украинской и других литературах, не менее достойных, чем литература метрополии, но и о юдофобии и вообще шовинизме Виктора Астафьева. В конце концов, писателям свойственны не только лучшие, но и худшие качества народа.
Как продукт идеалистического взгляда, «Право и литература» может временами казаться наивной книгой, но чаще она вдохновляет, показывая: эпохи, правители и законы приходят и уходят, а культура остается. И пока она есть, в ней сохраняются ценности, которые делают нас людьми.
* Александр Архангельский внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.


